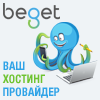Существует распространенное мнение о том, что этап развития индийской религии, который наследует ведизму и брахманизму и который, как правило, и называется собственно индуизмом, определяется прежде всего возникновением триады богов, воплощающей собой всю полноту бытия и космического процесса, разворачивающегося тремя важнейшими стадиями — возникновением мира, его существованием и гибелью.
Эти стадии осуществляются под эгидой трех богов — Брахмы (создателя мира), Вишну (охранителя) и Шивы (разрушителя), которые и рассматриваются индуизмом совокупно как тримурти («триобраз»), т.е. воплощенное единство всех космогонических функций, а иногда как Брахман, высшее духовное начало, явленное в трех формах. Именно это имел в виду Калидаса, великий индийский поэт, живший, вероятно, в V в. н.э., когда в поэме «Рождение Кумары» вкладывал в уста Брихаспати, жреца и наставника богов, такие слова: Хвала тебе, о Единый дух, существовавший до творения и затем воплотившийся в троеобразии, чтобы повелевать тремя началами вселенной [Эрман, 1976, с. 98]. Начиная с эпохи Калидасы, или, иначе говоря, с эпохи Гуптов, образ тримурти часто встречается и в поэзии, и в скульптуре, но практически выпадает из культа, приобретая в индийской культуре скорее эстетическое, нежели религиозное значение. Чтобы понять причину этого, представляется целесообразным рассмотреть, хотя бы в общих чертах, историю происхождения и становления как союза тримурти, так и каждой из фигур, его составляющих.
Отметим прежде всего, что принцип троичности, на котором зиждется этот образ, — чрезвычайно распространенная универсалия, возникновение которой связано, в частности, с тем, что число «три» мыслилось как символическое выражение целокупности мира и наиболее общей структуры бытия, имеющего начало, длительность и конец. Разумеется, этот принцип присущ и индийской культуре. Достаточно упомянуть такие характерные для нее понятия и реалии, как трилока (triloka — «три мира», т.е. небо, земля и пространство между ними), триварга (trivarga — «три жизненные цели» индуизма), три шага Вишну, три гуны, три нити брахманского шнура, три града асуров и т.п. Уже в «Ригведе», древнейшем индийском тексте, хорошо заметна склонность создателей гимнов к разнообразному обыгрыванию числа три и троичной классификации, о чем ярко свидетельствует, например, гимн к Ашвинам (1.34):
1. Трижды сегодня вы двое обратите свой взор на нас!
(Пусть будет) исключительным ваш путь и дар, о Ашвины!
У вас ведь привязь, как у одежды в холод — завязка.
Пусть управляют вами мудрые.
2. Три обода у колесницы (вашей), везущей мед.
Все ведь знают о (вашей) страсти к соме,
Три опоры укреплены, чтобы (все) удерживать.
Трижды ночью вы выезжаете, о Ашвины, и триркды днем.
3. В один и тот лее день трижды, о покрывающие (наши) ошибки.
Трижды сегодня жертву медом окропите!
Трижды сегодня, о Ашвины, сделайте вы набухшими для нас
Подкрепления, несущие награду, вечером и на заре!
Более существенным, однако, представляется тот факт, что принцип троичности лежит в основе традиционной классификации ведийских богов в соответствии с тремя сферами мира — землей, воздушным пространством и небом. Наиболее значительными представителями этих групп были Агни, Индра (или Ваю) и Сурья, которые, по мнению некоторых исследователей, образовывали своего рода ведийскую триаду и были так близки друг другу, что могли рассматриваться как одна божественная фигура (см. [Культурное наследие, 1982, с. 235]). В настоящее время данная классификация считается неудовлетворительной, поскольку она не покрывает все мифологическое поле «Ригведы» (см. [Ригведа, 1972, с. 44]), но ее наличие в традиции само по себе весьма знаменательно. По замечанию Я.Гонды, разделение богов на три класса (васу — земные боги, рудры — воздушные, адитьи — небесные), которое признавалось авторами самхит, составителями брахман и сохранилось во времена эпоса, по всей вероятности, могло проложить путь к формированию классической триады высших богов [Гонда, 1968, с. 216].
Еще более важной с рассматриваемой точки зрения оказывается фигура
Агни, бога, занимавшего одно из центральных мест в ведийских мифологии и ритуале. Троичность Агни понимается, в частности, как принадлежность к трем космическим сферам: он — Солнце (небо), молния (воздушное пространство) и земной огонь: природный, ритуальный и огонь домашнего очага. О нем говорят как об имеющем три места рождения, три тела (три ритуальных огня ведийского жертвоприношения), три вида пищи (масло, растения-дрова, сома) и т.д. [Гонда, 1976, с. 43]. В образе Агни хорошо различимы три функции, характерные впоследствии для тримурти, ибо он в одно и то же время — сила, творящая жизнь (прежде всего в солярном своем аспекте), охраняющая и поддерживающая ее и вместе с тем уничтожающая ее стихия. В плане становления этого образа важно еще отметить сложившуюся в индуизме прочную, порой доходящую до идентификации связь огня с двумя основными членами индусской триады — Вишну и Шивой.
Известно, что результатом героического деяния Индры, убившего демона Вритру, было создание структурированного космоса, мира, состоявшего из трех сфер, скрепленных между собой мировой осью. Однако к концу ведийского периода эта модель происхождения мира и космогонический по смыслу миф об Индре явно перестали удовлетворять древних индийцев, о чем прямо свидетельствуют поздние гимны «Ригведы», которые содержат попытки переосмысления акта творения и ставят многочисленные вопросы о причинах возникновения и об основах мира, предполагающие не поэтико мифологические, а скорее религиозно-теологические, притом более точные и однозначные ответы.
1
Не было не-сущего, и не было сущего тогда.
Не было ни воздушного пространства, ни неба над ним.
Что двигалось туда и сюда? Где? Под чьей защитой?
Что за вода была — глубокая бездна?
2
Не было ни смерти, ни бессмертия тогда.
Не было ни признака дня (или) ночи.
Дышало, колебля воздух, по своему закону Нечто Одно,
И не было ничего другого, кроме него...
6
Кто воистину знает? Кто здесь провозгласит?
Откуда родилось, откуда это творенье?
Далее боги (появились) посредством сотворения этого (мира).
Так кто же знает, откуда он появился?
7
Откуда это творение появилось:
Может, само создало себя, может, нет —
Тот, кто надзирает над этим (миром) на высшем небе,
Только он знает или же не знает
(Х.129 [Ригведа, 1972, с. 263]).
Этому гимну вторит другой, называемый «Гимн неизвестному богу»:
1
Он возник (сначала) как золотой зародыш.
Родившись, он стал единственным господином творения.
Он поддержал землю и это небо.
Какого бога мы почтим жертвенным возлиянием?
2
Кто дает жизнь, дает силу,
Чьи приказы соблюдают все, чьи — боги,
Чье отражение — бессмертие, чье — смерть, —
Какого бога мы почтим жертвенным возлиянием?
3
Кто (своим) могуществом стал единственным царем
Мира дышащего и дремлющего,
Кто владеет его двуногими (и) четырехногими —
Какого бога мы почтим жертвенным возлиянием?
(Х.121[Ригведа,1972, с. 261]).
Вообще идея представить того или иного бога главным, вбирающим в себя свойства и функции всех других богов, знакома и более ранним частям «Ригведы». Отчетливо она проявляется в русле так называемого генотеизма, или катенотеизма, согласно которому «то божество, к которому обращен хвалебный гимн, рассматривалось как высшее, единственное, независимо от того, какое место оно реально занимало в ведийском пантеоне» [Ригведа, 1972, с. 51]. Хотя эта теория, как отмечает Т.Я. Елизаренкова, подвергалась критике и малоубедительна [там же], ее, по нашему мнению, все же не следует совершенно сбрасывать со счетов, ибо она схватывает существенную черту древнеиндийского способа осмысления мира, характерную и для гораздо более поздних времен, — подвижную систему координат и оценок одного и того же явления. В ряде гимнов «Ригведы» мы сталкиваемся, например, с тенденцией воспевать бога, не просто подчеркивая его первенство в пантеоне, но приписывая ему качества, функции и даже имена других богов. Так происходит в знаменитом гимне Агни (II. 1), в котором бог огня предстает как всеобъемлющее вселенское начало. Любопытно, что в одном из фрагментов этого гимна Агни уподобляется Индре, Вишну и Брахманаспати, в чем можно усмотреть прообраз индусской триады, в которой, впрочем, отсутствует Шива, чье место пока занято Индрой. Весьма существенно, что в поздних гимнах «Ригведы», например, гимнах богине речи Вач (Х.125) или Вишвакарману (Х.81), первенство бога понимается не как его лидерство среди других богов или присвоение себе их свойств или имен, а как обладание функцией порождения мира. Иначе говоря, на первый план выдвигается идея единого бога-творца или, более абстрактно, единого порождающего мир начала. Параллельно с этим ведийская мысль двигалась от признания многочисленности явлений мира (в том числе богов) к осмыслению единой сущности этих явлений.
Автор: А.М. Дубянский